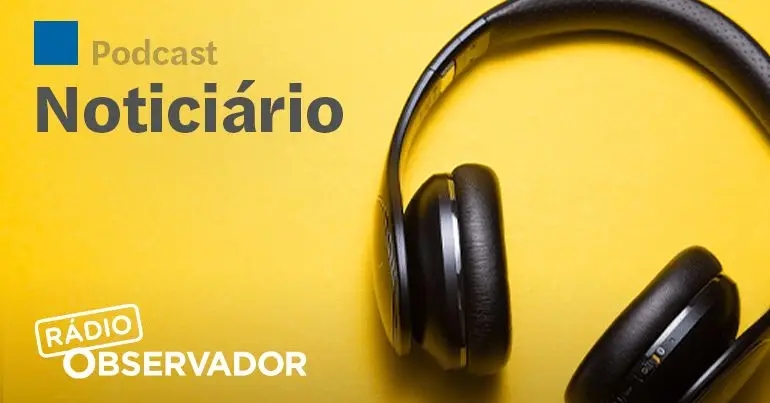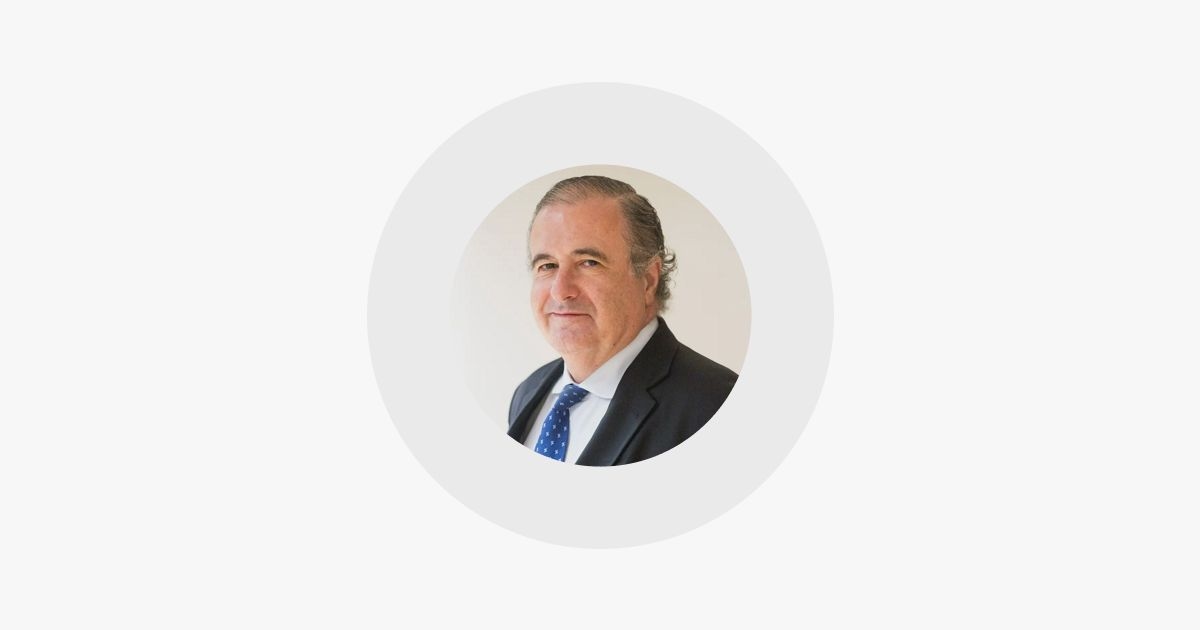(2) Заменяется ли университет?

В предыдущей статье обсуждалось текущее положение университета и поднимались вопросы о его будущем. Здесь мы обсудим основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня.
Университет подвергся влиянию крупных социальных и технологических преобразований последних десятилетий: падение Берлинской стены (1989) и кризис идеологий; упадок национальных государств и возникновение транснациональных политических организаций (например, Маастрихтский договор 1992 г.); экономическая, культурная и образовательная глобализация; научный прогресс и технологические инновации, имеющие сильное социальное воздействие; забота об окружающей среде; новые рынки и бизнес-модели; последующее переопределение профессиональных квалификаций в рамках так называемой 4-й промышленной революции. В этом контексте перед университетом возникают вызовы, подвергающие риску его миссию, цели и образ действий.
1) Конец монополии: знаний, образования и ученых степеней
Знания, один из самых ценных активов Университета, на протяжении столетий были заперты в его стенах. Однако сегодня это происходит повсюду, особенно когда речь идет о высшем образовании. Создание знаний все чаще происходит за пределами университета, а именно в передовых технологических компаниях и крупных технологических корпорациях. Легкий и мгновенный доступ к разнообразным источникам информации облегчает самостоятельное обучение и открывает новые формы неформального обучения за пределами университета. Университет утратил свою гегемонию знаний.
Такие движения, как Открытые образовательные ресурсы (ООР) , поддерживаемые ЮНЕСКО, и виртуальные среды обучения, такие как Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) или Небольшие частные онлайн-курсы (СПОК), открывают доступ к знаниям, как никогда ранее. Сегодня существуют способы передачи знаний в режиме онлайн , причем высочайшего качества , представленные настолько ясно, убедительно и эффективно, что они превосходят большинство занятий в традиционных университетах. Образование больше не является монополией университета.
Присуждение ученых степеней как подтверждения обучения также ставится под сомнение. Некоторые онлайн-платформы не только предоставляют контент, но и оценивают студентов и выдают «сертификаты». Они могут не иметь юридической ценности, но имеют «рыночную» стоимость, если признаются работодателями. Сертификация больше не является монополией университета.
2) Антагонистические силы и противоречивые ожидания
Сегодня университет сталкивается с дилеммой, когда его призывают, с вопиющим противоречием, делать все и даже наоборот, явно несовместимым образом:
– Он должен формировать «интеллектуальные элиты» и одновременно «квалифицированную рабочую силу». Но возможно ли совместить подготовку культурных, научных и политических лидеров (с гуманистической, критической и рефлексивной подготовкой) с массовизацией образования в целях реагирования на сиюминутные требования рынка труда?
– Он имеет международную/универсальную миссию и в то же время должен адаптироваться и реагировать на местные проблемы. Но эквивалентна ли универсальная миссия вкладу в региональное развитие?
– Их научная, педагогическая и культурная автономия отстаивается, но во многих случаях недостаточное государственное финансирование и вытекающая из этого необходимость собственных доходов вступают в противоречие с указанной автономией;
– Это должно быть пространство интеллектуальной свободы, открытое для независимого и беспристрастного критического мышления, но в то же время оно должно регулироваться непосредственными критериями производительности и показателями эффективности бизнеса, такими как KPI (ключевой показатель эффективности);
3) «Конкурирующие» альтернативы
Поскольку университет не может делать все и одновременно делать противоположное, появляются все более популярные альтернативы, особенно в сфере образования. Например, Университет Сингулярности, базирующийся в Кремниевой долине, определяет себя как «образовательную платформу», состоящую из «глобального сообщества или сети экспертов». Это частная инициатива, финансируемая транснациональными корпорациями, которая предлагает краткосрочные курсы в области технологий и инноваций.
Компания Google также вышла на рынок онлайн-образования, предложив на платформе Coursera так называемые профессиональные сертификаты Google . Это гибкие и недорогие курсы в областях с высоким спросом, таких как искусственный интеллект, данные, кибербезопасность, управление проектами и т. д. Первоначально проект был представлен с неявной критикой традиционной модели обучения, но с намерением сравнить ее с традиционными университетскими курсами.
Escola 42 — еще один пример прорыва и успеха в области альтернативного университетскому образованию. Созданный во Франции в 2013 году для обучения программированию, он финансируется меценатами и бесплатен для студентов. Компания присутствует более чем в 50 городах примерно в 30 странах, включая Лиссабон и Порту . Она считается превосходной школой программирования, а ее студенты пользуются большим спросом у работодателей. В том же духе существуют и другие инициативы, такие как Le Wagon (2013), Holberton School (2015) или BloomTech (2017).
Khan Academy — еще один пример учреждения, которое предлагает «бесплатное образование мирового класса для всех и везде». Их образовательные материалы, особенно видеоролики, набирают сотни миллионов просмотров.
Продолжают появляться другие альтернативы с различными подходами, продвигаемые НПО, некоммерческими организациями или компаниями. В сфере бизнеса и предпринимательства выделяются такие инициативы, как thePower (2017) или Hyper Island (1996). Еще одним примером такой трансформации в образовании являются учебные лагеря , которые становятся все более популярными на рынке труда.
Эти альтернативные формы образования доступны практически любому человеку, в любом месте и в любое время. Для них характерны быстрые и краткосрочные методы обучения, многие курсы бесплатны. Они не полностью соответствуют традиционному университету, но представляют собой альтернативу. Появившись за последние 15 лет, вполне возможно, что они будут становиться все более привлекательными, конкурируя с традиционными университетами за все большее количество студентов.
Парадоксально, но сами университеты вносят свой вклад в трансформацию университетского образования, предоставляя бесплатный доступ к содержанию своих учебных программ, включая видеозаписи занятий (например, Массачусетский технологический институт или ИИТ ). Это также способствовало изменению парадигмы в отношениях между студентами и университетами.
4) Университет является заменяемым в нескольких функциях
Одной из традиционных функций университета является сертификация и ранжирование студентов посредством выдачи дипломов и подсчета средних баллов по курсу. Это актуально для компаний, которые считают университеты важной «услугой» по подбору персонала. Однако сегодня эту роль университета заменяют сложные сервисы оценки и ранжирования, а также механизмы подбора персонала (например, WeCP , HireVue ). С этой точки зрения академический диплом и его классификация неизбежно теряют ценность.
Фактически, во многих областях появляется все больше альтернатив университетам с точки зрения подготовки, оценки, отбора и найма специалистов. Эти функции сами по себе больше не оправдывают существование или социальную значимость Университета. В определенном смысле, похоже, что цикл, начавшийся 200 лет назад с созданием наполеоновской модели, подходит к концу: университет как инструмент подготовки и отбора профессионалов.
5) Многие студенты воспринимают университет как нечто бесполезное.
Исходя из предыдущих 4 пунктов, неудивительно, что многие студенты критикуют и бросают университет, утверждая, что он бесполезен для их жизни. Существует устойчивый социальный образ предпринимателей, согласно которому их успех передается через университет (Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Майкл Делл, Ричард Брэнсон (Virgin), Ян Кум (WhatsApp), Трэвис Каланик (Uber) и т. д.). Однако игнорируется тот факт, что эти случаи являются исключительными и что, как правило, формальное образование является самым надежным путем к стабильности и профессиональному успеху. Поэтому, если поискать на YouTube «Бросили колледж» , вы найдете тысячи видеороликов с миллионами просмотров, пропагандирующих отказ от учебы в колледже. Когда осознается важность знаний, подразумевается, что они были получены в ходе неформального обучения, вне университетского контекста.
В то же время все больше компаний, особенно в США, больше не придают значения наличию у них университетского диплома и нанимают своих сотрудников независимо от того, учились ли они в университете. Согласно политике набора персонала ряда компаний ( Apple , Google , IBM , PwC , Aon ), ученая степень больше не является главным критерием, а скорее навыки кандидатов для достижения конкретных целей. Затем они предлагают целевое внутрифирменное обучение. Будет ли это устойчивым в долгосрочной перспективе в условиях высокой научной и технологической сложности? Способствует ли реагирование на насущные потребности компаний лидерству и устойчивости технологического прогресса?
6) Методы обучения считаются устаревшими
Что касается методов обучения, занятий и учебных материалов, то их считают скучными, старомодными и неэффективными по сравнению с другими, более непосредственными, интерактивными или увлекательными способами получения знаний. Это особенно важно для так называемого поколения Z ( zapping ), цифровых аборигенов, родившихся в период с 1995 по 2010 год.
7) Экономические трудности
С экономической точки зрения инвестиции студентов в университетское образование не всегда выгодны, как, например, в США, где студенческая задолженность является серьезной проблемой.
В Португалии, хотя средняя ежемесячная стоимость университетского образования составляет около 900 евро , оно дает значительные преимущества с точки зрения трудоустройства и долгосрочного дохода. Португалия — одна из европейских стран с самой высокой нормой прибыли за каждый дополнительный год обучения. Согласно отчету ОЭСР за 2024 год , надбавка к заработной плате в Португалии, связанная с высшим образованием, составляет 73% , тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 56%. Если рассматривать все возрастные группы, уровень безработицы в Португалии был ниже среди тех, кто учился в университете. Однако если рассматривать только возрастную группу от 25 до 34 лет, то в некоторые годы уровень безработицы в Португалии был выше среди выпускников, чем среди тех, кто закончил только среднее образование.
8) Мир VICA
В изменчивом, неопределенном, сложном и неоднозначном (VICA) мире некоторые утверждают, что «навыки» и обучение, необходимые для решения текущих проблем (технологических, социальных, экологических), быстро меняются, и что преподаваемый сегодня контент завтра устареет... Таким образом, утверждается, что 5-летний университетский курс на всю жизнь не имеет смысла, а скорее обучение на протяжении всей жизни. Альтернативой было бы потратить 5 лет на преподавание «того, что никогда не меняется», то есть, в случае факультетов STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика), научных основ, лежащих в основе любой технологии, как современной, так и будущей. Однако такой подход привел бы к тому, что обучение считалось бы «чисто теоретическим» и не имело бы непосредственного практического применения, что привело бы к обвинению в том, что университет не готовит студентов с навыками, необходимыми для решения практических проблем общества... Таким образом, проблема является круговой и парадоксальной...
В глобализованном мире VICA гумбольдтовская модель университета также больше не имеет смысла. Другими словами, университет как воспитатель «национальных граждан», генератор и хранитель «национальной культуры» утратил актуальность, поскольку в мире VICA все интернационально и глобально. Как заметил Билл Редингс, с угасанием национальных государств и культурной идентичности университет как хранитель национальной культуры устаревает. Однако удивительные события последних недель заставляют нас задуматься о том, продолжит ли глобализация оставаться фоном для развития университетов…
9) Захваченный университет
Подверженность университета внешним влияниям, не связанным с его миссией, не нова. На гуманитарных факультетах существует риск «идеологического похищения», поскольку они являются привлекательной мишенью для политической инструментализации. Они позволяют влиять на будущих лидеров, контролируя производство и распространение знаний, ориентированных на молодых людей, которые бдительны, впечатлительны и открыты идеализму и активизму.Декларация Порт-Гурона (1962 г.) является примером этого повторяющегося желания использовать университет в качестве инструмента для продвижения политических программ и идеологий. В последние годы во многих кампусах преобладают культура отмены и нападки на свободу слова. В некоторых случаях вмешательство исходит от других государств, например, финансовое и политическое влияние Китая на Кембриджский университет — Как Китай купил Кембридж .
На факультетах STEM существует риск «экономического захвата», поскольку разработка некоторых технологий может представлять большой интерес для компаний. Это может привести к чрезмерному влиянию на стратегию исследований и конфигурацию курса, создавая предвзятость, которая ставит под угрозу призвание университета, его автономию и его равноудаленность от частных групп.
С этим связана попытка (частично уже реализованная) превратить университет в простую рыночную услугу, сведя курсы к чему-то, что можно измерить исключительно с точки зрения «результатов обучения». Основным выражением этой тенденции является международный договор ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами) 1995 года Всемирной торговой организации (ВТО), который включил университеты в регулирование международной торговли. В конечном итоге университеты будут склоняться к созданию центров профессиональной подготовки, ориентированных на практические навыки, ориентированные на потребности рынка, что несколько напоминает концепцию школы цифровой магистратуры EIT , в ущерб критическому, рефлексивному и всестороннему образованию.
10) Удушающая бюрократия
Университет, как и другие организации, превратился в такой тяжелый бюрократический комплекс, что он практически парализует самую лучшую работу, которую там следует делать. Многочисленные протоколы, процедуры, положения, стандарты, приказы, отчеты, документы, формы, совещания, комитеты, оценки, конкурсы, подписи, циркуляры, электронные письма, цифровые платформы, увольнения, незначительности и другие непродуктивные препятствия выходят за рамки всякой разумности.
Правда, это проблема не только Университета — это образ жизни, который стал широко распространенным и состоит из двух компонентов: i) постоянное отвлечение, подобное броуновскому движению, допускает постоянное отчуждение с момента пробуждения до отхода ко сну, не давая никому остановиться и поразмышлять о сути жизни и вступая в кризис; ii) с другой стороны, все делается на основе недоверия к индивидуальной автономии и презумпции виновности. Как сказал Гилберт Кинг Честертон: «Если люди не соблюдают Десять Заповедей, они в конечном итоге будут соблюдать Десять Тысяч Заповедей».
Эта постоянная бюрократическая распыленность, помимо того, что она приводит к растратам и демотивации, особенно вредна для Университета, поскольку она мешает профессорам в полной мере реализовать свое академическое призвание, поскольку они не являются просто «преподавательским составом»: Университет по сути зависит от доступности и инициативности своих профессоров. Однако они проводят бесконечные часы на совещаниях, обсуждая бесчисленные непродуктивные препятствия, но редко бывают в настоящей душевной тишине в лаборатории ( laboratorium, от laborare , что означает работать), и редко встречаются, чтобы обсудить действительно академические вопросы...
В университете не хватает монастырей и агор!
После размышлений об основных проблемах, с которыми сталкивается университет, в следующей статье будет рассмотрена его историческая эволюция вплоть до наших дней.
Мнения, высказанные здесь, принадлежат исключительно автору, а не учреждениям, с которыми он связан.
observador