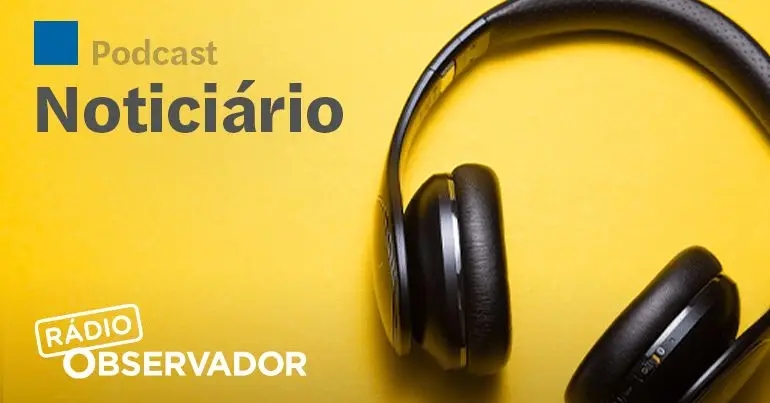Жуан Педру Вала. «Пруст не отказался бы от вечеринки, просто чтобы посмотреть, как люди одеты».

Спустя чуть более века после своей смерти французский писатель Марсель Пруст (1871–1922) продолжает вызывать непреодолимое очарование. И даже колоссальный объём его романа «В поисках утраченного времени» ( À la Recherche du Temps Perdu ) — семь томов, более трёх тысяч страниц и около миллиона трёхсот тысяч слов — похоже, не отпугивает читателей.
Критик и писатель Жуан Педру Вала — один из многих, кого пленила магнетическая сила творчества Пруста. Получив диплом по менеджменту, он понял, что хочет пойти другим путём, и решил изучать литературу. Докторская диссертация привела его из Лиссабона в Чикаго, где он провёл «три месяца, просто читая» в беспощадную зиму.
Теперь он только что превратил эту диссертацию в « Словарь Пруста» (под ред. Кецаля), где намерен представить широкой публике человека, которого он считает «величайшим писателем всех времен» .
На этой обложке мы видим другого Пруста. Мы привыкли представлять его больным, лежащим в постели, не выходящим из комнаты, а на этой фотографии он выглядит расслабленным, играющим с теннисной ракеткой, словно с гитарой или мандолиной.
Идея была в том, чтобы попытаться представить Пруста не как серьёзного автора, уже позирующего, а как человека, похожего на нас, — играющего, развлекающегося. Мне также очень нравится фотография смертного одра Пруста, сделанная Маном Рэем. Но это было бессмысленно — это дало бы совершенно противоположный эффект.
Известно ли нам что-нибудь о контексте этой фотографии?
В юности он часто вращался в аристократических кругах; его друзья в основном были там. Мальчики шли играть в теннис, а он стоял у корта с дамами и наблюдал. На самом деле, даже по его одежде было видно, что он пришёл не играть. [смеётся]
Похоже, это у него очень распространено. Насколько я понимаю, он вращался в этих кругах, но так и не интегрировался в них полностью, всегда оставаясь немного аутсайдером .
Думаю, именно это и делает его способным писать. Он обращался к аристократии, потому что не родился там и стремился возвыситься. И даже гомосексуальное сообщество было сообществом, которое он не мог до конца понять — будучи гомосексуалистом, он, похоже, не вел очень активную жизнь. И я думаю, что именно вопрос дистанции позволяет книге существовать, то есть это позиция человека, который видит мир, разворачивающийся снаружи, и смотрит на этот мир зачарованным взглядом, который возможен только тогда, когда мы не погружены в него. По совпадению, я как раз читал «Поэтику» , и Аристотель говорит, что одна из возможных этимологий слова «комедия» связана с тем, что художники бродили за пределами городов. Думаю, это хорошее определение искусства. Это то, что всегда возникает снаружи, из внешнего и алчного взгляда, но которое не может войти. Вот почему Пруст говорит, что все раи — это потерянные раи.
Вы специально упомянули во вступительной заметке, что Пруст — ваш любимый писатель. Это была любовь с первого взгляда, или, скорее, с первого прочтения?
Думаю, когда мы уделяем предмету достаточно времени, мы неизбежно в него влюбляемся. Когда столько времени тратишь на написание докторской диссертации, невозможно не развить в себе сильную эмпатию. Но в данном случае я сразу почувствовал связь. То, что Пруст говорил об искусстве и о том, как он позиционировал себя по отношению к миру, было для меня очень важно. Во время курса я впервые глубоко задумался об искусстве и литературе, и так эти вещи переплелись, и моя любовь к литературе переплелась с моей любовью к Прусту. На самом деле, он много говорит об этой особенности: когда два события происходят одновременно, мы склонны их путать. Поэтому иногда очень сложно понять, говорю ли я о Прусте, литературе или о текстах, которые пишу. Эта путаница также делает меня более страстной. Но, думаю, всё это берёт начало с того самого момента, когда я прочитал «В поисках утраченного времени» и нашёл его необыкновенным.
При каких обстоятельствах это произошло?
Я начал с диплома по менеджменту, но потом решил, что это не мой путь. Сначала я год учился в бакалавриате, а затем поступил в магистратуру [по литературе]. В конце первого семестра магистратуры у меня была встреча с профессором Мигелем Таменом, сыном переводчика «Recherche» , и я попросил его помочь мне направить моё чтение в сторону более систематического подхода, потому что я не читал достаточно, чтобы написать диссертацию.
Существует ли «правильный способ» читать автора, чтобы составить тезис?
Думаю, это своего рода игра в подглядывание. Не знаю, применим ли метод, который я использовал для своей диссертации, к диссертации о другом авторе, но я начал с чтения «Recherche» , затем перечитал более второстепенные тексты Пруста, пытаясь выявить закономерности. По мере того, как я выявлял закономерности, мне стало интересно узнать больше о жизни автора, и я начал читать его биографию. Сначала текст, затем биографию и только потом второстепенную библиографию.
Именно в таком порядке.
Всё, что мы говорим об авторе, должно начинаться с его текста, ведь жизнь Пруста интересна только потому, что он написал «В поисках утраченного времени» . Одновременно с чтением дополнительной библиографии я читаю его письма, читаю авторов, которых он читал, или тех, кто был его современником… Это бесконечный процесс.
Один из вопросов, который всегда будет возникать в связи с романом «Поиски» , — насколько он автобиографичен, насколько отождествляется рассказчик и автор. Некоторые утверждают, что Марсель — рассказчик — и Пруст — разные фигуры. Но мне кажется, что сам факт одинакового имени лишь подпитывает эту путаницу.
Хотя бы для того, чтобы проблематизировать это, сказать: «Здесь есть проблема, и ключ к её решению, возможно, в том, чтобы читать это как автобиографию». Конечно, когда мы читаем его биографии, многое не сходится. Но он говорит о том, что текст существует только потому, что его жизнь была такой, какой она была. Здесь есть важная связь. [Жан-Ив] Тадье [биограф] считает, что эта связь не так уж сильна и важна, потому что, например, нет описания внешности Пруста. Таким образом, Тадье, похоже, является своего рода предшественником теории, которая давно существует в комиксах. Думаю, именно МакКлауд первым выдвинул эту теорию: Тинтин — персонаж с более-менее расплывчатыми чертами, погруженный в мир с очень конкретными контурами. И идея заключалась в том, чтобы создать расплывчатого персонажа, чтобы читатели могли…
Поставьте себя на его место?
Уберите Тинтина, и вот я здесь. Не думаю, что это работает с Прустом, потому что у него есть черты характера, с которыми нам трудно себя идентифицировать. Мы не сажаем женщину в тюрьму в Париже и не оставляем её взаперти дома. Эта теория многообещающа, но в данном случае она в конечном счёте не имеет смысла. Если это не автобиография, то, по крайней мере, «автороман».
Эти параллели применимы не только к главному герою, но и к персонажам, которые его окружают. До такой степени, что несколько человек из его окружения узнали себя в книге Пруста, и некоторые пришли в ярость.
Есть забавная история, которую я не уверен, что включил в книгу. В какой-то момент [Робер де] Монтескью [поэт, друг Пруста, фигура, известная своей эксцентричностью] очень оскорбляется, потому что он читает первый том и узнаёт некоторое сходство с бароном де Шарлю. Затем, когда он доходит до Содома и Гоморры [четвёртого тома], он понимает, что барон де Шарлю гомосексуалист, и пишет Прусту, что ему очень неловко из-за этой ситуации. И Пруст отвечает: «Нет. Барон де Шарлю толстый, а вы худой». И Монтескью полностью удовлетворён этим ответом, потому что ему нужен был аргумент, чтобы сказать людям: «Это не я, понимаете?» Пруст всегда меняет вещи, чтобы они соответствовали истории, которую он хочет нам рассказать. Но, конечно, роман полон его жизненного опыта.
В одном месте Пруст называет своё произведение «литературным собором». В Средние века собор был микрокосмом, отражением всего мира. « Поиски» также являются отражением мира, но мира весьма специфического – жизни аристократии и высшей буржуазии. На ваш взгляд, что делает его универсальным произведением, изображающим этот весьма специфичный мир?
На самом деле, у нас даже возникает определённая антипатия к этой главной героине, потому что сам Пруст стирает из неё все следы доброты. Главная героиня самовлюблённая, избалованная, полностью одержимая любовью, совершенно не обращающая внимания на окружающих, и это, очевидно, отталкивает нас как читателей. Но я думаю, Пруст как раз и заставляет нас взглянуть на другую форму эмпатии – эмпатию узнавания человека в его полной наготе. Думаю, именно с этой универсальностью он и играет. Это не универсальность достаточно неопределённого персонажа, не универсальность «так мы привыкли смотреть на себя», где мы – герои нашей истории, а универсальность очень заметной хрупкости. Он готов смириться, показать себя «гнилым», хотя и не готов идти до конца. Например, он не гомосексуал, не еврей, и поэтому он как будто строит мир, который нападает на него, но нападает только теми способами, которые он сам выбирает. В этом смысле садомазохизм очень важен в истории.
Что касается садомазохизма, то, кажется, биограф Джордж Пейнтер рассказывал, что Пруст получал особое удовольствие, втыкая булавки в крыс... Возможно, это связано с его отцом, который был гигиенистом. Если мы рассматриваем крыс как переносчиков болезней, возможно, это объясняет...
Есть несколько довольно странных историй. Одна из них гласит, что он нанял мужчину-проститута в гостиничный номер, где мужчина-проститутка занимался с крысами чем-то нехорошим, и мастурбировал, наблюдая за этим, а в соседнем номере полицейский избивал курицу. Думаю, эта история, скорее всего, выдумка, но её тоже никто не выдумывает! [смеётся]
Другой аспект, который может вызвать некоторое недоумение, заключается в том, что, зная о гомосексуальности Пруста, рассказчик испытывает полное отвращение, впервые став свидетелем гомосексуальных отношений между двумя женщинами. Была ли это ложная скромность, попытка изобразить шок?.. Чего он пытался добиться столь яростным осуждением?
Я много говорю об этой сцене в книге, и, думаю, она состоит из нескольких компонентов. С одной стороны, он шокирован эстетическим опытом встречи двух лесбиянок, который отличается от опыта встречи двух мужчин. Потому что, будучи гетеросексуальным мужчиной, каким он себя представляет, лесбийский мир был для него совершенно закрыт. И эта закрытость, с одной стороны, шокирует, а с другой – почти райское ощущение. По сути, он воспринимает это как театральную сцену, потому что занавес открывается, и он сидит там и смотрит. В то же время, я думаю, он показывает нам, что здесь нет ничего радикально отличающегося от любовного опыта гетеросексуального мужчины. Но к этому нужно подходить осторожно, потому что это опасно. А ещё в «Содоме и Гоморре» есть отрывок, который я нахожу очень любопытным: барон де Шарлю около 40 страниц рассуждает о гомосексуальности, а затем говорит: «Меня это интересует только с академической точки зрения». И когда он это говорит, мы смеемся, потому что знаем, что барон де Шарлю гомосексуалист, но также думаем: «Пруст уже давно говорит о гомосексуализме» …
Другими словами, может быть, вы хотите передать какое-то сообщение?
Точно.
Одна из важных тем «Поисков» — любовь, но любовь навязчивая, нездоровая. При этом автор весьма рационален в своих попытках её объяснить, словно ставя себя на место врача, производящего вскрытие.
В какой-то момент он даже говорит, что любовь Свана была «неоперабельной». Отправной точкой служит его автобиографический опыт, в данном случае гомосексуальность в глубоко гомофобном контексте, что приводит его к восприятию любви как чего-то недостижимого. С другой стороны, это также идея о том, что в любви я теряю контроль, и история « Поисков» – это во многом история контроля. Есть любопытный момент, где Альбертина спит, и он говорит о ней как о домашнем животном, кошке. Но когда она просыпается, он уже использует лексику дикого зверя. Другими словами, нам нужно приручить это животное, если мы хотим контролировать свою жизнь.
Мне кажется важным, что он начинает книгу с эпизода с поцелуем матери на ночь и с той тревогой, которую он испытывает по этому поводу. Он не может это контролировать, и, возможно, именно поэтому позже, когда у него завязываются романтические отношения с Альбертиной, он хочет любой ценой контролировать её и всегда иметь в своём распоряжении.
Это как раз тот опыт, который возникает при написании книги. В книге люди нападают на меня, но я выбираю, как именно они нападают. И они говорят то, что я им говорю. У Пруста есть эта одержимость контролем. Андре Жид рассказывает, что когда слуги Пруста собирались передать ему послание, они останавливались перед его домом и начинали его декламировать. И в какой-то момент Жид прерывает мужа Селесты Альбаре [домоправительницу Пруста], и ему приходится остановиться и вернуться к началу послания.
Создаётся впечатление, что в молодости Пруст был денди, дилетантом – если не легкомысленным, то, по крайней мере, довольно легкомысленным. Есть ли момент, когда он преображается, поворотный момент, когда он перестаёт быть дилетантом и становится великим романистом?
Думаю, самая запутанная часть биографии Пруста заключается в том, что он никогда не перестаёт быть и тем, и другим. Интуитивно мы думаем, что в какой-то момент он перестаёт быть легкомысленным. Но нет. И роман тоже полон легкомыслия. И это, похоже, сбивает с толку Андре Жида, который отказывается публиковать первый том в издательстве «Галлимар». А позже пишет ему письмо: «Это была самая большая ошибка в моей жизни, но я думала, что вы из „du côté de chez Verdurin“» [отсылка к персонажу мадам Вердюрен, нувориши, которая благодаря своему состоянию держит светский салон, но не знает правил настоящего хорошего вкуса и элегантности]. Также важно развеять миф о том, что писатель не может быть легкомысленным. По крайней мере, в случае с писателями, которых я знаю. У всех нас есть совершенно обыденные амбиции. И Пруст никогда не теряет их, он лишь преображает их. Но это продолжает биться внутри. Жажда признания не покидает его до конца жизни. Он оплачивает публикацию восхваляющих его статей, написанных им самим, и делает всё возможное, чтобы получить орден Почётного легиона…
Никогда не отказывайтесь от этой поверхностной стороны.
Но действительно странно, когда мы думаем, что величайший писатель всех времен — по моему мнению, конечно — одновременно является парнем, который не отказался бы от вечеринки только ради того, чтобы посмотреть, во что одеты люди.
Публикация «Recherche» имеет непростую историю. Сначала, как я уже упоминал, рукопись была отклонена.
Он пробует обратиться к другому издателю, но снова получает отказ. Тогда он отправляется в Грассе и оплачивает расходы на печать книги. Процесс переговоров весьма странный, поскольку издатель постоянно предлагает ему больше денег, но он отказывается. Его единственное требование – не публиковать остальные тома у него, не изменять текст и, прежде всего, сделать книгу дешевле, чем обычно, чтобы её покупали простые парижане. Кроме того, он отдаёт ему очень большой процент от гонорара за международные продажи, чтобы подогреть жадность Грассе и попытаться продать книгу за границей. Таким образом, он всегда заботится о потомках.
Но остальные шесть томов в итоге публикует Галлимар. Судя по всему, отказ его не расстроил.
Должно быть, так и было, но, думаю, он понимал, что это гораздо важнее всего остального. И, думаю, письмо Андре Жида его искренне тронуло. Если рассматривать процесс поэтапно, это было мучительно, ведь он посвящает книгу редактору «Фигаро» , который собирался ему помочь, но перестал отвечать, потому что получил отказ и не захотел говорить Прусту. А потом он отдаёт книгу ему на Рождество… это было мучительно. Но для Пруста было нечто более важное: публикация в «Фигаро». И он это проглотил.
Сработала ли эта стратегия, направленная на то, чтобы книги стоили дёшево? Это не совсем простая книга.
В конце концов, это срабатывает. У него отличный маркетинговый талант. Например, однажды он видит книгу с баннером «Эту книгу не стоит читать молодым девушкам», и просит разместить такой же баннер на своей книге. Затем он платит людям, чтобы те написали о нём хорошие отзывы в газетах. Однажды появился бренд, продававший нижнее бельё для «молодых девушек в расцвете сил»... Он добивается коммерческого успеха на протяжении всей своей жизни. Не ошеломляющего, но ему удаётся охватить множество людей.
Не знаю, запретная ли это тема, табу для исследователей и поклонников Пруста. Когда вышел первый том, один критик задался вопросом, как можно посвятить 30 страниц описанию человека, ворочающегося в постели и неспособного заснуть. Пруст иногда скучный писатель или нет?
[смеётся] Честно говоря, я так не думаю. Мне кажется, это ритм, в который ты вживаешься, и когда ты в него вливаешься, это как...
Мы собрали вещи?
Точно, мы настроены на лад. Конечно, этот ритм требует от нас, читателей, многого; это не тот ритм, который ведёт нас за руку, как детей. Он требует усилий. Но я чувствую, что, как только проникаешься этой музыкальностью и ритмом, от книги очень трудно оторваться. Обычно такую критику слышат те, кто либо не читал книгу, либо не хватило терпения, либо сдался при первом же сопротивлении. Но, думаю, очень сложно сказать то же самое, когда дочитаешь второй том, потому что уже вошел в эту колею. Мой опыт, на самом деле, — это опыт удивления.
Jornal Sol